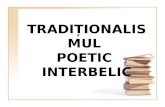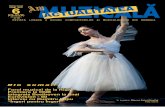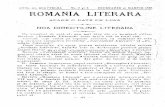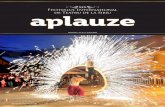Poetic A
-
Upload
doinitzacoll -
Category
Documents
-
view
9 -
download
1
description
Transcript of Poetic A

POETICA LUI ARISTOTEL„Astazi Gerard Genette publica primul volum al unui ansamblu intitulat Opera artei. El extinde aici domeniul poeticii, în latime si în înaltime, înglobînd-o în domeniul mai vast al esteticii. S-a spus despre el ca este un Aristotel al zilelor noastre; si iata-l acum pe punctul de a deveni un Kant si un Hegel al zilelor noastre."
Cuprins:I. Imitaţia, esenţă a poeziei şi a celorlalte arte. Felurite soiuri de poezie, după mijloacele cu ajutorul cărora realizează imitaţia........ II. Felurite soiuri de poezie, după obiectele imitate................III. Felurite soiuri de poezie, după chipul cum realizează imitaţia....IV. Originea naturală a poeziei, împărţirea în poezie „serioasă" si „hazlie". Dezvoltarea ramurii „serioase": epopeea şi tragedia. Evoluţia tragediei......................................V. Definiţia comediei. Obârşia şi dezvoltarea ei în comparaţie cu tragedia. Deosebiri între tragedie şi epopee...........................VI. Definiţia tragediei. Elementele din care e alcătuită, însemnătatea lor respectivă.............................................VII. Cel dintâi element al tragediei: subiectul sau mitul. Subiectul trebuie să fie întreg şi de o oarecare întindere..................VIII. Unitatea subiectului........................................IX. Subiectul trebuie să oglindească universalul. Comparaţie între poezie şi istorie. Cele mai frumoase subiecte........................X. Subiect simplu şi subiect complex...............................XI. Elementele subiectului complex: peripeţia, recunoaşterea, elementul patetic ........................... XII. împărţirile cantitative ale tragediei: prologul,episodul, exodul, cântul corului............................................XIII. Sfaturi în legătură cu stârnirea sentimentelor de milă şi frică. Eroul tragic..............................................XIV. Tragicul brutal şi tragicul artistic. Feluritele chipuri de a stârni emoţia tragică............................................XV. Al doilea element al tragediei: caracterele XVI. Despre feluritele chipuri de recunoaştere folosite de autorii tragici ... XVII. Sfaturi dramaturgilor în legătură cu creaţia tragică.............. XVIII. Despre intrigă şi deznodământ. Despre deosebirea de structură a tragediei si a epopeii. Despre cor.XIX. Alte elemente ale tragediei: graiul şi judecata................... XX. Elementele graiului: litera, silaba, particula de legătură, numele, verbul, flexiunea, propoziţiunea............ XXI. Numele: feluritele lui specii, din punctul de vedere al exprimării poetice. Metafora.................... XXII. Caracterele graiului: exprimare poetică,exprimare comună...... XXIII. Epopeea. Elemente comune cu tragedia. Se deosebeşte de istorie..... XXIV. Alte asemănări şi deosebiri între tragedie şi epopee. Homer, eternă pildă de intuiţie artistică................. XXV. Probleme de critică literară şi dezlegările lor................... XXVI. Comparaţie între tragedie şi epopee. Superioritatea tragediei.......
Originar din Stagira, dar stabilit de timpuriu la Atena, unde avea să-şi petreacă cea mai mare parte a vieţii, Aristotel (384—322 î.e.n.), cel mai universal dintre gânditorii lumii vechi, a lăsat în urmă-i un număr impresionant de scrieri, în care sunt reprezentate preocupările cele mai variate ale spiritului, de la metafizică până la zoologie, trecând prin logică, gnoseologie, etică şi politică. Un întreg şir de lucrări — în cea mai mare parte cunoscute astăzi numai indirect — erau închinate literaturii, sub raport istoric şi teoretic, altele psihologiei şi retoricii. Din această imensă producţie o bună parte s-a pierdut (în primul rând scrierile zise „exoterice", întocmite într-o formă elaborată şi destinate publicului). Ceea ce ne-a rămas, scrierile „esoterice" — note concise şi nu o dată obscure, destinate învăţământului şi păstrate în interiorul Lyceului, şcoala de înţelepciune întemeiată de Aristotel în 335, într-o dumbravă din marginea Atenei — reprezintă, prin vastitate şi adâncime, un adevărat monument închinat geniului uman: o masă de cunoştinţe şi speculaţii al cărei aport la dezvoltarea culturii europene întrece pe al oricărui alt filozof al antichităţii.
Poetica lui Aristotel a apărut ca o reacţie împotriva opiniilor lui Platon, ca o încercare de coborâre a problemei poeziei de la planul arid al metafizicii pe planul psihologiei şi al istoriei. Compus între anii 334-330 î.Cr., tratatul Περι ποιητικης aparţine procesului de revizuire a platonismului, în decursul căreia, în aproape toate
1

problemele mari ale filozofiei, întemeietorul Lyceului avea să se oprească la soluţii deosebite de cele îmbrăţişate de fostul său dascăl. Această afirmaţie e cât se poate de bine ilustrată de poziţia celor doi gânditori faţă de artă, care, pentru unul ca şi pentru celălalt, se înfăţişa ca fiind în ultima-i esenţă „imitaţie" (mimesis). Dictonul lui Aristotel „Platon îmi este prieten, dar mai prieten îmi este adevărul”, se referă în primul rând la strădaniile sale de a reabilita poezia şi pe poeţi. „Poetica” Stagiritului are un marcat caracter polemic şi constituie o veritabilă pledoarie pentru emanciparea artei literare. Implicit şi nedeclarat se străduieşte să pulverizeze „acuzaţiile” maestrului. Pentru a combate culpa poeziei „de a stârni pasiunile josnice legate de plăcere şi durere”, introduce ca argument conceptul de catharsis, faimoasa „purificare a pasiunilor”, atât de des discutat şi explicat, de la neoplatonicii Proclos şi Iamblichos şi până în zilele noastre, constituind o achiziţie teoretică definitivă şi de necontestat, care prefigurează impactul „ştiinţei literaturii” cu psihologia receptării artelor.
Dacă pentru Platon imitaţia nu era decât o îndeletnicire mincinoasă şi amăgitoare, mulţumită căreia artistul urmăreşte să reproducă mecanic realitatea exterioară — fapte şi întâmplări omeneşti, Aristotel depăşeşte simţitor această concepţie, arătând ca obiect al activităţii mimetice nu realitatea nemijlocită, actualmente existentă sau întâlnită în trecut, ci o realitate esenţială, o realitate posibilă în limitele verosimilului şi ale necesarului. Pentru Stagirit, lumea poeziei se situează astfel pe un alt plan de adevăr decât cel al experienţei. Făpturile ei participă la o realitate mai caracteristică decât realitatea înconjurătoare. În loc să fie ca toţi oamenii, eroul tragic e aşa cum ar trebui poate să fie oamenii: mai aproape de ideea pe care o reprezintă, de acel eidos al speţei pe care artistul l-a întrevăzut şi căruia încearcă să-i dea fiinţă. „Dacă se aduce artistului învinuirea că n-a înfăţişat fidel ce voia să înfăţişeze are dreptul să răspundă că l-a înfăţişat, poate, cum trebuie să fie.” „Oameni cum sunt cei pictaţi de Zeuxis se poate să nu existe; cu atât mai bine, însă, că-s mai frumoşi, pentru că modelul trebuie depăşit". Tot aşa, la învinuirea lui Platon că tragedia s-ar face vinovată de prezentarea zeilor şi eroilor într-o lumină defavorabilă, Aristotel opune o definiţie originală a acestei forme de poezie, în care caracteru-i mitic-eroic e trecut sub tăcere.
Printr-o abilă arguţie, Aristotel respinge şi „vina” poeziei „de a nu exprima lumea ideală”. În celebra paralelă dintre istorie şi poezie, se afirmă că „istoria” (Herodot)... înfăţişează faptele aievea întâmplate, iar Homer (poezia) fapte ce s-ar putea întâmpla. De aceea şi e poezia mai filozofică şi mai aleasă decât istoria: pentru că poezia înfăţişează mai mult universalul, câtă vreme istoria mai degrabă particularul. Datoria poetului nu e să povestească lucruri întâmplate cu adevărat, ci lucruri putând să se întâmple în marginile verosimilului şi necesarului.
Atât pentru Platon cât şi pentru Aristotel arta înseamnă imitaţie: μιμήσις. Pentru Platon însă, această imitaţie nu e decât o îndeletnicire mincinoasă şi amăgitoare, mulţumită căreia artistul urmăreşte să reproducă mecanic realitatea exterioară. La Aristotel în schimb, această concepţie este total schimbată arătând că obiectul activităţii mimetice nu este realitatea superficială actualmente existentă ori întâmplată în trecut, ci o realitate esenţială, o realitate posibilă în limitele verosimilului şi ale necesarului. Platon împărţise literatura, după natura etică a operelor, în literatură serioasă şi literatură hazlie, una reprezentată prin tragedie şi epopee, cealaltă prin iambi şi comedie. Cât despre poezie, Platon scria ca aceasta s-a împărţit după caracterele individuale ale poeţilor, firile serioase înclinând să imite isprăvile alese şi faptele celor aleşi, iar cele de rând ale oamenilor neciopliţi.
Tot aşa, la învinuirea lui Platon că tragedia s-ar face vinovată de prezentarea zeilor şi eroilor într-o lumină defavorabilă, Aristotel opune o definiţie originală a acestei forme de poezie, în care caracteru-i mitic-eroic e trecut sub tăcere. Pentru Aristotel tragedia e simpla „imitaţie a unei acţiuni potrivnice dramei greceşti clasice, a cărei acţiune e prin excelenţă „aleasă”. unul din temeiurile de seamă ale condamnării platonice a poeziei era acela că-şi trage obârşia din partea cea mai puţin raţională a sufletului şi că înteţeşte în noi pasiunile „josnice" legate de plăcere şi durere. La această gravă obiecţie Stagiritul opune teza că — aşa cum se întâmplă în viaţa trupului, unde substanţe toxice sunt uneori întrebuinţate în scop terapeutic — în cazul poeziei, pasiunile pe care acesta le suscită sfârşesc prin a contribui la pacificarea sufletului. „Pentru cine ştie să se slujească de ele sunt pasiuni care acţionează ca arme în sprijinul virtuţii”. Singura condiţie este să fie bine alese, bine întrebuinţate, bine stăpânite. Cu alte cuvinte, să fie curăţite, purificate de ceea ce este excesiv în ele. De-aci până a folosi teoria pasiunilor „salutare" în justificarea înrâuririi exercitate de poezia dramatică, distanţa era mică. Şi Aristotel o străbate, implicând în definiţia de el dată tragediei ideea rolului pacificator al ficţiunii, diversiv nevătămător al unui prisos de simţire îndrumat pe această cale spre măsură şi echilibru.În Poetica, Aristotel identifică două cauze ale naşterii poeziei, ambele fireşti: prima e „darul înnăscut al imitaţiei, sădit în om din vremea copilăriei", iar cealaltă „darul armoniei şi al ritmului". Astfel, Aristotel înfăţişează o
2

adevărată teorie despre originea poeziei înaintea căreia pălesc şi laborioasa explicaţie a stărilor de „entuziasm", pe care o încercase Democrit, şi graţioasele imagini sub care Platon îşi ascundea nedumerirea. Darul imitaţiei fiind prin urmare în firea fiecăruia, şi la fel şi darul armoniei şi al ritmului cei dintru început înzestraţi pentru aşa ceva, desăvârşindu-şi puţin câte puţin improvizaţiile, au dat naştere poeziei. Aceasta s-a împărţit' după caracterele individuale ale poeţilor, precum ceilalţi cântări şi laude. Firile serioase înclinând să imite isprăvile alese şi faptele celor aleşi, iar cele de rând pe ale oamenilor neciopliţi: gata să compună din capul locului stihuri de dojana, precum ceilalţi cântări şi laude.
Potrivit acestui mod de a vedea, creaţia poetică e o manifestare naturală, decurgând din libera înflorire a unor aptitudini general-omeneşti; o activitate spontană, în măsura în care pentru a se manifesta n-are nevoie de intervenţia nici unui factor extern, şi încă şi mai puţin de a unei revelaţii; în sfârşit, o activitate normală, pentru că e făcută să coexiste cu celelalte facultăţi ale sufletului, fără a exclude facultăţile raţionale.
Cu privire la ţelul urmărit de artă în general şi de arta literară în particular, trebuie relevat faptul că nu cunoaşterea abia pomenită, nici „curăţirea patimilor", de care am vorbit înainte, reprezintă scopul ultim al poeziei, ci plăcerea rezultând fie din anumite calităţi de stil, fie din anumite situaţii sau invenţii poetice. Această desfătare e înfăţişată ca un ţel către care poezia tinde şi în atingerea căruia se realizează pe sine. Mai mult decât atât, această hedone nu-i aceeaşi pentru toate genurile literare, ci particulară fiecăruia, în cazul special al tragediei, de pildă, superioritatea ei asupra celorlalte varietăţi de poezie e dovedită şi prin argumentul plăcerii cu totul speciale pe care o procură, pricinuită de o imitaţie care e opera dramatică prin stârnirea sentimentelor de frică şi milă. Cine împinge mai departe această analiză şi caută să-şi lămurească, după termenii Poeticii, natura plăcerii artistice, ajunge la încheierea că se dau în opusculul aristotelic, în legătură cu această întrebare, mai multe răspunsuri nu tocmai concordante.
Epopeea şi poezia tragică, ca şi comedia şi poezia ditirambică apoi cea mai mare parte din meşteşugul cântatului cu flautul şi cu cithara sunt toate, privite laolaltă, nişte imitaţii. Se deosebesc însă una de alta în trei privinţe: fie că imită cu mijloace felurite, fie că imită lucruri felurite, fie că imită felurit, — de fiecare dată altfel. Căci după cum, cu culori şi forme, unii izbutesc să imite tot soiul de lucruri (cu meşteşug învăţat, ori numai din deprindere), după cum mulţi imită cu glasul, tot aşa şi în artele pomenite: toate săvârşesc imitaţia în ritm şi grai şi melodie, folosindu-le în parte ori îmbinate. Cântul cu flautul, ori cu cithara folosesc doar ritmul şi melodia; arta dănţuitorilor numai ritmul fără melodie: căci şi aceştia, cu ritmuri turnate în atitudini, imită caractere, patimi, fapte. Cât priveşte arta care imită slujindu-se numai de cuvinte simple ori versificate, până astăzi n-are un nume al ei.Comedia e imitaţia unor oameni neciopliţi; nu însă o imitaţie a totalităţii aspectelor oferite de o natură inferioară, ci a celor ce fac din ridicol o parte a urâtului. Ridicolul se poate dar defini ca un cusur şi o urâţime de un anumit fel, ce n-aduce durere nici vătămare, aşa cum masca actorilor comici e urâtă şi frământată, dar nu până la suferinţă. Transformările prin care a trecut tragedia, ca şi numele celor ce le-au săvârşit, ne sunt cunoscute; evoluţia comediei, dacă n-a fost luată în seamă de la început, a căzut în uitare. Abia într-un târziu s-a gândit magistratul să acorde autorilor de comedii corul de care aveau nevoie; înainte, cei ce dădeau asemenea spectacole o făceau din propriul lor îndemn.
Tragedia e imitaţia unei acţiuni alese şi întregi, de o oarecare întindere, în grai împodobit cu felurite soiuri de podoabe osebit după fiecare din părţile ei, imitaţie închipuită de oameni în acţiune, ci nu povestită, şi care stârnind mila şi frica săvârşeşte curăţirea acestor patimi. Numesc „grai împodobit" graiul cu ritm, armonie, cânt: şi înţeleg prin „osebit după fiecare din părţile ei" faptul că unele din acestea constau numai din versuri, iar altele au nevoie şi de muzică. Cum imitaţia, care e tragedia, e săvârşită de oameni în acţiune, un prim element al ei va fi neapărat elementul scenic; urmează apoi cântul şi graiul, prin mijlocirea cărora se realizează imitaţia. Prin „grai", înţeleg alcătuirea verbală a versurilor; prin „cânt", ceva a cărui înrâurire e toată exterioară. În acelaşi timp, imitaţia de care ne ocupăm fiind imitaţia unei acţiuni, realizată de câţiva eroi, iar aceştia deosebindu-se în ochii noştri după caracterul şi judecata fiecăruia (elemente după care, îndeobşte, se cântăresc faptele individuale), urmează că pricinile acţiunilor sunt două, caracterul şi judecata, şi că, la rândul lor, acţiunile hotărăsc fericirea ori nefericirea oamenilor. Imitaţia acţiunii este ceea ce constituie subiectul oricărei tragedii (cu alte cuvinte, îmbinarea faptelor ce o alcătuiesc); caracterul, ceea ce ne dă dreptul să spunem despre eroi că sunt aşa sau altminteri; judecata, ceea ce îngăduie vorbitorilor să dovedească ceva ori să enunţe vreo părere. În chip necesar, fiece tragedie va avea dar şase părţi, ce slujesc să-i determine felul, şi acestea sunt: subiectul, caracterele, limba,
3

judecata, elementul spectaculos şi muzica. Subiectul nu-i unul, cum îşi închipuie unii, întrucât priveşte un singur personaj. Doar multe şi nenumărate sunt întâmplările putând să se ivească în viaţa cuiva, fără ca, din unele din ele, să rezulte o unitate; şi tot astfel faptele unui om sunt multe, fără ca laolaltă să alcătuiască o singură acţiune.
Poetica este prima încercare sistematică de teoretizare a literaturii din câte se cunosc şi face şi ea parte din categoria scrierilor esoterice. Aceasta prezintă particularităţile relevate înainte şi aceasta explică, pe de o parte, anevoinţa de a o traduce, pe de alta, imensitatea efortului exegetic al cărui obiect a fost timp de milenii. In forma în care ne-a parvenit, lucrarea reprezintă numai o parte a textului original: prima din cele două cărţi câte va fi numărat tratatul, după ipoteza cea mai îndreptăţită. Şi, întrucât partea păstrată tratează despre ramura „nobilă" a poeziei — epopeea şi tragedia —, e de presupus că partea pierdută privea ramura „grosolană" ori „muşcătoare" a acesteia, producţiile satirice şi comice.
BibliografieAristotel, Poetica, Editura IRI, Bucureşti 1998.Pippidi, D.M., Arte poetice. Antichitatea, Editura Univers, Bucureşti 1970.Pippidi, D.M., Formarea ideilor literare în Antichitate, Polirom, Iaşi 2003.
Multă vreme, „tradiţia” impunea opinia că Poetica lui Aristotel ar fi constituit o excepţie, o normă anterioară scrierii, aproape un dictat. Mi se pare însă justificată părerea lui Pierre Brunel că „lucrarea este mai mult descriptivă decît normativă”. Fără exemplele din epopeile şi tragediile scrise, cum s-ar fi construit demersul teoretico-critic?
POETICA LUI ARISTOTEL
I. ARISTOTEL REVIZITAT, “Introduction aux grandes théories du théâtre ”, Jean-Jacques Roubine, Paris (Bordas), 1990.
1. Priviri generale asupra PoeticiiTeoriile teatrale ale secolului al XVII-lea încearcă să-l ajute pe dramaturg să corespundă criteriilor lui Aristotel. Abundenţă exegetică plecând de la un text lacunar şi incoerent.
Dramaturgia verosimilului: importanţa acţiunii; a reprezenta nu realul, ci posibilul delimitat prin verosimil şi necesar. Verosimilul: experienţa comună, plauzibilul pentru un grup dat într-o epocă dată, noţiune de opinie comună importantă în secolul al XVII-lea. Convingerea: bazată pe un sistem de adevăruri date (trebuie să excludem deci iraţionalul) care se bazează, după Aristotel, doar pe text, adică pe povestire. Reprezentaţia este nerespingabilă şi textul incert. Admirabilul, spre exemplu, este relatat în mod exclusiv la Racine. Aristotel devalorizează spectacolul, superioritate a poemului dramatic asupra altor componente ale teatrului.
Confirmatul şi convingătorul: Aristotel exclude şi monstruosul (diferit de înspăimântător) care naşte incredulitatea şi oroarea. Estetica franceză este de atunci cea a justei măsuri (se va începe aprecierea lui Shakespeare). Atunci când adevărul istoric (confirmatul) este monstruos, trebuie să-l deformăm pentru a-l face convingător.
Idealizarea şi identificarea: pentru Aristotel, reprezentaţia tragică imită idealizând. Dar fără moralism, ea trebuie să arate acţiuni convenabile a suscita frica sau compătimirea. Opera de artă tragică are drept funcţie de a suscita o plăcere (care provine din milă şi groază) de natură estetică prin reprezentaţia realului (şi nu a obiectului reprezentat). Finalitatea este ameliorarea şi calmarea sufletului. Acesta este principiul catharsisului (purgaţie? purificare?), fără definiţie exactă… Compătimirea: emoţie altruistă; groaza: egocentrică, în sens că şi eu însumi pot deveni victimă a unui rău asemănător.
4

Paradoxul catharsisului: plăcerea este suscitată de către două emoţii dezagreabile care sunt purificate de tristeţea pe care o au în realitate. Această teorie fondează practica teatrală pe identificare, este necesar ca spectatorul să adere în întregime. Este necesar ca eroul să fie între extreme pentru ca spectatorul să se poată identifica cu el; mai mult, nu trebuie ca răul să apară ca meritat sau justificabil (altfel, nu mai este compătimire).
Dificultate de a concilia idealizarea şi identificarea. Verosimilul este central pentru ca totul să funcţioneze, pentru ca spectatorul să creadă.
2. Transmiterea doctrineiTraduceri şi comentarii: Poetica este tradusă în latină în 1498 (Valla), în greacă în 1503. Teorii reluate de poeticieni preocupaţi doar să-l ajute pe poet. Noi traduceri şi comentarii.În 1561 Scaliger este cel mai explicit şi mai coerent: cu el, aristotelismul devine o ortodoxie în raport cu care trebuie să se situeze fiecare poet. În 1570, un nou comentariu al lui Castelvestro care extrapolează noi dogme: unitatea timpului şi unitatea spaţiului (pentru verosimil). În Franţa, orice autor trebuie să o cunoască, chiar dacă ea nu va fi tradusă în Franţa decât abia în 1671. Cult consacrat lui Aristotel, mai ales de către La Mesnardière. Teatrul francez este completamente subjugat de această nouă normă şi autorii vor trebui să se justifice pentru orice abatere prin doxa.
Magisterul lui Chapelain: în cearta lui Cid, Chapelin trebuie să tranşeze cearta între Corneille şi Scudéry (Pro-Aristotel). El îl condamnă pe Corneille, dar opinia îl preferă pe Corneille. Oamenii de teatru nu cunosc aristotelismul şi nu i se încred, Chapelain este deci însărcinat să li-l explice. El creează regula prin note şi corespondenţe. Dar anume La Mesnardière este acea care prezintă o Poetică nefinisată urmată de d’Aubignac cu Practica teatrului (1657).
3. Aristotelismul în stil francez „Regulile” teatrului: tentativă de a instaura un realism în teatru. Dar un teatru mai curând citit. Preocupare de inteligibilitate. Trebuiesc legi imperative. Astfel operele se judecă după gradul de respectare de către ele a regulilor (refuz al oricărei originalităţi). Aceasta este în conformitate cu contextul ideologic (religie, cult al autorităţii raţiunii). Imperiul raţiunii: împotriva obscurantismului. Partizanii „regulilor” sunt moderni. Ei pledează pentru raţiune. Aristotelismul în stil francez fondează un elitism intelectual, o aristocraţie a spiritului: casta „savanţilor”, unicii judecători. Principiul nu constă în a place publicului (incult). Dar savanţii (profesionali) admit de asemenea „omul simplu” în calitate de judecător, (amator luminat).
4. A imita şi a înfrumuseţa A imita Natura: în inima aristotelismului în stil francez noţiune echivocă de natură, rău definită. Se înclină mai curînd spre imitaţie. Este necesar ca, în limita posibilităţilor, ea să fie cea mai perfectă (nu în reprezentaţie, ceea ce este imposibil, ci în text). Nici o ironie critică ce ar distruge identificarea. Preocupare de credibilitate.Reprezentaţia teatrală (pe care Chapelain nu o neglijează) trebuie să fie un proces de halucinaţie, de alienare pentru ca spectatorul să uite că se află în teatru.
A idealiza Natura: Chapelain trece de la verosimil la veracitate: mai puţină libertate pentru dramaturg. Contemporanii săi preferă din partea lor să facă o reprezentaţie care să fie perfectă pornind de la un model ce nu este în mod obligatoriu o “corijare” a naturii. Concept de natură frumoasă (repus în circulaţie mai târziu cu natura adevărată): Frumosul, Agreabilul, Nobilul şi Simplul. Artistul trebuie să idealizeze. În secolul al XVII-lea genurile cele mai idealizante sunt cele mai înalte (tragedia, epopeea …). Stilizare imitată de către verosimil şi asemănare. Fixat între asemănare şi idealizare, clasicismul fondează o estetică a justei măsuri. Se evită orice singularizare, caracteristică istorică etc. ce împiedică identificarea.
5

5. Ucazurile verosimilului Veridicul şi verosimilul: adevărul este insuficient şi posibil periculos drept obstacol în procesul identificării. Se preferă a-l schimba pentru a-l face verosimil. Dar dacă veridicul este atestat şi cunoscut de către public, ce trebuie să facă dramaturgul? Este preferabil de a evita epizodele cele mai cunoscute ale Legendei sau ale Istoriei.
Verosimil ordinar, verosimil extraordinar: două noţiuni distinse de către Castelvestro. Urmat de către Chapelain. Este necesar de a refuza neverosimilul confirmat (cum nu o face Corneille). Chapelain privilegiază verosimilul ordinar, credibil şi necesar. Nimic din admirabil. Aversiune de a utiliza biblia adevărată, dar intransformabilă. Corneille revendică dreptul de a utiliza istoricul neverosimil, căci el este necesar. El se îndepărtează de ortodoxie în numele libertăţii de invenţie a autorului şi a libertăţii de a exploata mina Istoriei. El rămâne izolat şi suspect. Monologul şi aparteul nu trebuie să apară drept convenţionale, pentru a nu dăuna verosimilului. În orice caz, trebuie de protejat halucinaţia spectatorului ameninţat în mod constant.
6. Vizibilul şi invizibilulEvenimentele pe care teatrul nu le poate reprezenta, dar care nu pot fi suprimate: acest verosimil, dar imposibil de a-l arăta tehnic; acesta ce ar suscita incredulitatea. De unde o dialectică a vizibilului şi a invizibilului, a reprezentatului şi a povestitului. Patru posibilităţi pentru dramaturg:- evenimentul se petrece pe scenă;- el se petrece în afara scenei, durând un act al piesei (în simultaneitate cu un eveniment reprezentat);- el se petrece pe scenă în timpul antractului;- în afara scenei în timpul antractului.Naraţiunea oferă două avantaje asupra reprezentaţiei: nu este tributară constrângerilor scenice; atenuează intolerabilul. Aristotelismul nu acceptă convenţia, doar iluzia pentru a reprezenta admirabilul. 7. Regula unitară Constatări:- atenţionarea şi asimilarea spectatorului limitat, el pierde atât de rapid interesul faţă de intrigile complicate;- este neverosimil de a arăta într-un singur loc (teatrul) mai multe locuri;- acelaşi lucru pentru durată.
Unitatea acţiunii: Aristotel recomandă unitatea. Coerenţă organică a piesei, toate evenimentele trebuie reunite între ele prin necesitate şi să contribuie la realizarea acţiunii.
Unitatea timpului: Aristotel este mai puţin explicit. Compromis: ar fi ideal de a face să coincidă durata reprezentaţiei cu cea a acţiunii. Limita este de o zi pentru ca intervalul să fie moderat.Critici asupra acestui punct împotriva Cidului. Este necesar ca acţiunea să dureze în mod verosimil 24 de ore. Dar această lege apare drept restrictivă şi jignitoare pentru „subiectul frumos”.
Unitatea locului: Aristotel şi primii comentatori italieni nu vorbesc de ea.Ideea se naşte pornind de la verosimil: distanţa pe care o poate parcurge un personaj în timpul duratei acţiunii conform aceluiaşi raţionament ca şi pentru temporalitate. Această regulă se impune discret în Franţa. Şi doar pornind de la Cearta Cidului locul unic va fi adoptat. Aubignac este acela care o formulează cel mai explicit: pornind de la principiul verosimilului, un singur spaţiu nu poate reprezenta două. Însă, pentru a place gustului publicului, se poate admite un decor care se schimbă reprezentând diverse părţi ale aceluiaşi loc; mai mult, el reclamă un loc deschis (faţada palatului, locurile
6

publice). Racine, atunci când poate, urmează mai mult sau mai puţin această ultimă recomandare. Molière este mai independent în ceea ce priveşte acest punct final. Aristotelismul este anti-economic referitor la această întrebare ce este opusă gusturilor publicului care iubeşte decorurile variate. De aici o rezistenţă vie … Această regulă nu se impune decât în „genurile mari”, în celelalte urmează exuberanţa barocă (Molière, Corneille). Aristotelismul francez devalorizează spectacularul împotriva gustului publicului.
8. Digresiune asupra bunei cuviinţe Buna cuviinţă este absentă la Aristotel, dar se subîncadrează în estetica clasică. Tot ce este reprezentat trebuie, mai întâi de toate, să fie în conformitate cu ideea pe care publicul şi-o poate face despre acest lucru. Aceasta este, mai întâi de toate, o normă aristocratică, fiindcă personajele sunt aristocraţi. Altfel, aceasta va fi neverosimil. E vorba despre buna cuviinţă externă, care corespunde normelor admise de public. Buna cuviinţă internă: este determinată de economia internă a piesei: un anume personaj nu poate spune anumite lucruri… Buna cuviinţă este unul din pilonii teoretici ai aristotelismului în stil francez.
9. Estetica şi politicaMiza acestor dezbateri teoretice: putere simbolică şi economică asupra teatrului. În această luptă, totul ce se opune aristotelismului este nejustificat (public, autor). “Savanţii” aţâţă intrigi, climă de opresiune, graţie sprijinului lui Richelieu care doreşte să stabilească ordinea şi în teatru împotriva anarhiei libere a barocului. Teatrul, ce adună mulţimile, este o miză politică pe care puterea politică încearcă să o controleze în scopul celebrării monarhiei lui Louis al XIV-lea.
Аристотель. Поэтика (Отрывки) (Пер.В.Аппельрота) Том 1. Н.Ф. Дератани, Н.А. Тимофеева. Греческая литература. М., "Просвещение", 1965
АРИСТОТЕЛЬ (384-322 гг. до н. э.)
[Аристотель - величайший философ и ученый-энциклопедист античного мира. Он родился в г. Стагире, в Македонии. С 343 г. до н. э. Аристотель состоял воспитателем Александра, будущего царя Македонии; возвратившись в Афины в
335 г., он основал свою философскую школу.К. Маркс называет Аристотеля "величайшим мыслителем древности" {К. Маркс, Капитал, т. I,
Госполитиздат, 1955, стр. 414.}. Аристотель является учеником Платона, но в то же время критиком и идейным противником своего
учителя. Аристотель в противоположность Платону - в основном философ-материалист, хотя в некоторых вопросах и не до конца последовательный, например в вопросе о форме и содержании, о взаимоотношении общего и единичного и др. В своих "Философских тетрадях" Ленин называет критику Аристотелем "идей" Платона "критикой идеализма как идеализма вообще" {В. И. Ленин. Философские тетради Госполитиздат, 1947, стр. 264.}.
Аристотель был не только виднейшим философом античности, но также и зоологом, физиком, ученым-медиком и теоретиком литературы. В своей "Поэтике" Аристотель подвел итоги литературным теориям своего времени и в сущности
впервые установил ряд эстетических норм. В противоположность Платону он подчеркнул познавательную функцию искусства и дифференцировал эстетику и
этику. До нас дошла та часть "Поэтики" Аристотеля, где он высказывает свойвзгляд на трагедию, и, по-видимому, этот раздел являлся наиболее
7

существенной частью "Поэтики". Аристотель придерживается того взгляда, чтовсе, что есть в эпической поэзии, находится и в трагедии, но не все, чтоимеет трагедия, находится в эпосе {Аристотель, Поэтика, XXVI.}. В своей"Поэтике" Аристотель глубоко и верно трактовал основные вопросы искусства,вопрос о сущности искусства, о его познавательной функции, вопросы,касающиеся непосредственно только литературы, например вопрос о спецификехудожественной литературы, о значимости трагедии, о ее сущности, оположительном герое в драматургии и т. д. В этих основных вопросах "Поэтика" Аристотеля не потеряла своего значения и в наши дни.("Поэтика" Аристотеля имеется в переводах Захарова (1885), Аппельрота (1893) и Новосадского (1927).
СУЩНОСТЬ ПОЭЗИИ И ЕЕ ВИДЫ I. Мы будем говорить как о поэзии вообще, так и об отдельных ее видах,о том, какое приблизительно значение имеет каждый из них и как должнаслагаться фабула, чтобы поэтическое произведение было хорошим, кроме того, отом, из скольких и каких частей оно состоит, а равным образом и обо всем,.что относится к этому же предмету; начнем мы свою речь, сообразно ссущностью дела, с самых основных элементов. Эпическая и трагическая поэзия, а также комедия и поэзиядифирамбическая, большая часть авлетики {Искусство игры на духовоминструменте вроде флейты.} и кифаристики {Искусство игры на кифаре.} - всеэто, вообще говоря, искусства подражательные; различаются они друг от другав трех отношениях: или тем, в чем совершается подражание, или тем, чемуподражают, или тем, как подражают, что не всегда одинаково. Подобно тому какнекоторые подражают многим вещам, при их воспроизведении, в красках иформах, одни - благодаря искусству, другие - просто по привычке и иные -благодаря природному дару, так и во всех только что упомянутых искусствах;подражание происходит в ритме, слове и гармонии, отдельно или вместе: так,гармонией и ритмом пользуются только авлетика и кифаристика и другиемузыкальные искусства, например искусство игры на сиринксе {Духовойинструмент вроде свирели.}, а при помощи собственно ритма, без гармонии,производят подражание некоторые из танцовщиков, так как они именнопосредством ритмических движений воспроизводят характеры, аффекты идействия, а та поэзия, которая пользуется только словами, без ритма или сметром, притом либо смешивая несколько размеров друг с другом, либоупотребляя один какой-нибудь из них, до сих пор остается без определения:ведь мы не могли бы дать общего имени мимам {Mим - народная театральнаясценка. Софрон и его сын Ксенарх - составители мимов в V в. до н. э.}Софрона или Ксенарха и сократическим разговорам, ни если бы кто совершалподражание посредством триметров {Триметр - стихотворный размер. Ямбическийтриметр состоял из шести ямбических стоп.}, элегических {Элегический стих -чередование гекзаметра с пентаметром.} или каких-либо других подобныхстихов; только соединяя понятие "творить" с размером, называют однихэлегиками, других - эпиками, величая их поэтами не по сущности подражания, авообще по метру (то есть стихотворному размеру). Если издадут написанныйразмером какой-нибудь трактат по медицине или физике, то обыкновенноназывают его автора поэтом, а между тем у Гомера и Эмпедокла {Эмпедокл -сицилийский философ, ученый V в. до н. э. Свои идеи он изложил в философскихпоэмах "О природе" и "Очищения".} нет ничего общего, кроме метра, почемупервого справедливо называют поэтом, а второго скорее физиологом, чем
8

поэтом. Но есть некоторые искусства, которые пользуются всем сказанным, то естьритмом, мелодией и размером; таковы, например, дифирамбическая поэзия и номы{Номы - особые песни религиозного характера.} трагедия и комедия;различаются же они тем, что одни пользуются всем этим сразу; а другие -отдельно. III. К этому присоединяется еще третье различие, заключающееся в том,как подражать в каждом из этих случаев. Именно подражать в одном и том же иодному и тому же можно, рассказывая о событии, как о чем-то отдельном отсебя, как это делает Гомер, или вести рассказ от своего же лица, не заменяясебя другим, или же представляя всех изображаемых лиц, как действующих идеятельных. Вот в каких трех различиях заключается всякое подражаниеобъективному миру (то есть творчество), - именно в средстве, предмете испособе, так что в одном отношении Софокл мог бы быть тождествен с Гомером,так как оба они изображают людей достойных, а в другом - с Аристофаном,потому что они оба представляют людей действующими и притом драматическидействующими. Отсюда, как утверждают некоторые, эти произведения иназываются драмами (dramata, то есть действа), так как они изображают людейдействующими. IX. Задача поэта - говорить не о действительно случившемся, но о том,что могло бы случиться, следовательно, о возможном - по вероятности или понеобходимости. Именно историк и поэт отличаются не тем, что один пользуетсяразмерами, а другой нет: можно было бы переложить в стихи сочиненияГеродота, и тем не менее они были бы историей - как с метром, так и безметра, но они различаются тем, что первый говорит о действительнослучившемся, а второй о том, что могло бы случиться. Поэтому поэзияфилософичнее и серьезнее истории: поэзия говорит более об общем {1}, история- об единичном. Общее состоит в том, что человеку такого-то характера следует говоритьили делать по вероятности или по необходимости. К этому стремится и поэзия,придавая (героям) имена. А единичное, например, в том, что сделал Алкивиад{Алкивиад (450-404 гг. до н. э.) - афинский полководец и политическийдеятель.} или что с ним случилось. Относительно комедии это уже очевидно: именно, сложив фабулу по законамвероятности, поэты, таким образом, подставляют любые имена и не пишут,подобно ямбическим писателям, на отдельных лиц. В трагедии же онипридерживаются действительно бывших имен, причина этого та, что верызаслуживает только возможное. Что не случилось, того мы еще не признаем возможным, а случившеесяочевидно, возможно, так как оно не случилось бы, если бы было невозможным.Однако в некоторых трагедиях одно или два имени известны, прочие жевымышлены, а в некоторых нет ни одного известного имени, например в "Цветке"Агафона {Греческий трагик V в. до н. э., который первый отказался отмифологических сюжетов в трагедии.}, где одинаково вымышлены какпроисшествия, так и имена. Следовательно, не надо непременно стремиться ктому, чтобы держаться переданных преданием мифов, в кругу которыхзаключается трагедия. Отсюда ясно, что поэту следует быть больше творцомфабул, чем метров, насколько он поэт по своему подражательномувоспроизведению и подражает он действиям. Даже если ему придется изображатьдействительно случившееся, он тем не менее (остается) поэтом, ибо ничто немешает тому, чтобы из действительно случившихся событий некоторые были
9

таковы, каковыми они могли бы случиться по вероятности или по возможности, вэтом отношении он (поэт) является их творцом.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПОЭЗИИ И ЕЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ IV. Как кажется, вообще две причины, и притом заключающиеся в природе(человека), произвели поэзию. Во-первых, подражание присуще людям с детства,и они тем отличаются от прочих животных, что наиболее способны к подражанию,благодаря которому приобретают и первые знания, а во-вторых, подражание всемдоставляет удовольствие. Доказательством этого служит то, что происходит вобыденной жизни: на что мы в действительности смотрим с отвращением,точнейшие изображения того мы рассматриваем с удовольствием, как напримеризображения отвратительных животных и трупов. Причина же этого заключается втом, что приобретать знания весьма приятно не только философам, но равно ипрочим людям, с той разницей, что последние приобретают их не надолго {2}.На изображение смотрят (они) с удовольствием, потому, что, взирая на него,приходится узнавать и рассуждать, что каждый (предмет обозначает), например,что это - то-то; если же смотрящий не видел раньше (предмета изображения),то последний доставит (ему) наслаждение не как воспроизведение предмета, ноблагодаря отделке или колориту или другой какой-нибудь причине. Так как подражание свойственно нам по природе, так же как и гармония иритм (а что метры - особые виды ритмов, это очевидно), то еще в глубокойдревности были люди, одаренные от природы способностью к этому, которые,мало-помалу развивая ее, породили из импровизации поэзию. Поэзия, смотря по личным особенностям характера (поэтов), распалась наразные отделы: именно поэты более серьезные воспроизводили прекрасныедеяния, притом подобных же им людей, а более легкомысленные изображалипоступки дурных людей, сочиняя сперва насмешливые песни, между тем какпервые создавали гимны и хвалебные песни {3}.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРАГЕДИИ КАК ЖАНРА, РАЗВИТИЕ ЕЕ VI. Об искусстве подражать в гекзаметрах и о комедии мы будем говоритьвпоследствии, а теперь скажем о трагедии, извлекши из только что сказанногоопределение ее сущности. Итак, трагедия есть подражание действию важному изаконченному, имеющему определенный объем, (подражание) при помощи речи, вкаждой из своих частей различно украшенной посредством действия, а нерассказа, совершающее благодаря состраданию и страху очищение4 подобныхаффектов. "Украшенной речью" я называю такую, которая заключает в себе ритм,гармонию и пение; распределение их по отдельным частям трагедии состоит втом, что одни из них исполняются только посредством метров, а другие -посредством пения.
XXVI. ТРАГЕДИЯ И ЭПОС Может быть, у кого-нибудь явится вопрос, эпическая ли поэзия выше илитрагическая. Ведь если менее тяжеловесное (поэтическое произведение)заслуживает предпочтения (а таковое всегда рассчитывает на лучшую публику),то вполне ясно, что поэзия, подражающая всему без исключения, тяжеловесна.(А исполнители), как будто публика не поймет их, если они от себячего-нибудь не прибавят, пускают в ход всевозможные движения, кувыркаясь,как плохие флейтисты, когда им приходится представлять "Диск", и увлекаякорифея, когда наигрывают "Скиллу". Как последние относятся к новым актерам, так целое драматическое
10

искусство относится к эпосу: последний, говорят защитники эпоса,предназначается для благородной публики, не нуждающейся в жестикуляции, атрагическое искусство - для черни. Итак, если тяжеловесная поэзия хуже, тоясно, что таковою была бы трагедия. Но, во-первых, это критика не поэтического, а актерского искусства, таккак возможно излишество во внешних движениях и для рапсода {Рапсод -исполнитель эпических поэм.}, что замечается у Сосистрата {Сосистрат - одиниз рапсодов.} и у певцов лирических песен, что делал Мнасифей {Мнасифей -греческий певец, происходивший из Опунта в Локриде.} из Опунта. Затем,нельзя порицать и движения вообще - иначе пришлось бы отвергнуть и танцы, -но движения плохих актеров, что ставилось в упрек и Каллипиду и другимактерам, не умеющим будто бы подражать свободнорожденным женщинам. А сверхтого трагедия и без движения исполняет свою обязанность так же, как иэпопея, ибо посредством чтения становится ясным, какова (та или другаятрагедия). Затем, трагедия имеет все, что есть у эпопеи; она может пользоватьсяметром последней, и сверх того немалую долю ее составляет музыка итеатральная обстановка, благодаря чему наслаждение чувствуется особенноживо. Далее, она обладает жизненностью и в своих узнаваниях и в развитиидействия, а также благодаря тому, что цель подражания достигается в ней приее небольшом сравнительно объеме, ибо все сгруппированное воедино производитболее приятное впечатление, чем запутанное продолжительностью времени;представляю себе, например, если кто-нибудь сложил "Эдипа" Софокла встольких же песнях, как "Илиада". Наконец, единства изображения в эпопееменьше, чем в трагедии; доказательством этому служит то, что из любой поэмыобразуется несколько трагедий, так что если создают одну фабулу, то или, прикратком выражении, поэма кажется кургузой, или, благодаря длине метра,водянистой... Если же поэма сложена из нескольких действий, как "Илиада" и"Одиссея", то она заключает в себе много таких частей, которые и сами посебе имеют достаточный объем. Но эти поэмы составлены насколько возможнопрекрасно и служат отличным изображением единого действия. Итак, если трагедия отличается всем только что сказанным и сверх тогодействием своего искусства - ведь должно, чтобы и трагедия и поэмадоставляли не всякое случайное удовольствие, но только вышесказанное, - тоясно, что она стоит выше, достигая своей цели лучше эпопеи. IV. ...Здесь не место рассматривать, достигла ли уже трагедия во (всех)своих видах достаточного развития или нет - как сама по себе, так и поотношению к театру. Возникши с самого начала путем импровизации, и сама онаи комедия (первая - от запевал дифирамба, а вторая - от запевал фаллических{Песни, исполняющиеся в честь бога Диониса; во время этих процессий неслисимвол плодородия - "фаллос".} песен, употребительных еще и ныне во многихгородах) разрослись понемногу путем постепенного развития того, чтосоставляет их особенность. Испытав много перемен, трагедия остановилась,достигнув того, что лежало в ее природе {5}. Что касается числа актеров, тоЭсхил первый ввел двух вместо одного, он же уменьшил партии хора и на первоеместо поставил диалог, а Софокл ввел трех актеров и декорации. Затем измалых фабул явились большие произведения, и диалог из шутливого, - так какон развился из сатировской драмы, - сделался позднее серьезным; размер изтрохеического тетраметра {Стих, состоящий из восьми стоп или четырехметров.} стал ямбическим (триметром); сперва же пользовались тетраметром,потому что само поэтическое произведение было сатирическим и более носило
11

характер танца, а как скоро развился диалог, то сама природа открыласвойственный ей размер, так как ямб из всех размеров самый близкий кразговорной речи. Доказательством этого служит то, что в беседе друг сдругом мы произносим очень часто ямбы, а гекзаметры редко, и притом нарушаятон разговорной речи. Наконец, относительно увеличения числа эписодиев ипрочего, служащего для украшения отдельных частей трагедии, мы ограничимсятолько этим указанием, так как излагать все в подробностях было бы слишкомдолго.
ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ТРАГЕДИИ VI. ...Так как подражание (в трагедии) производится в действии, топервою по необходимости частью трагедии было бы декоративное украшение,затем музыкальная композиция и словесное выражение; ведь в этом именносовершается подражание. Под словесным выражением я разумею самое сочетаниеслов, а под музыкальной композицией - то, что имеет очевидное для всехзначение. Так как трагедия есть подражание действию, а действие производитсядействующими лицами, которым необходимо быть какими-нибудь по характеру и пообразу мыслей (ибо через это мы и действия называем какими-нибудь), тоестественно вытекают отсюда две причины действия - мысль и характер,благодаря которым все имеют либо успех, либо неудачу. Подражание действию есть фабула; под фабулой я разумею сочетаниефактов, под характерами - то, почему мы действующие лица называемкакими-нибудь, а под мыслью - то, в чем говорящие доказывают что-либо илипросто высказывают свое мнение. Итак, необходимо, чтобы в каждой трагедии было шесть частей, наосновании чего трагедия бывает какою-нибудь. Части эти суть: фабула,характеры, образ мыслей, сценическая обстановка, словесное выражение имузыкальная композиция. Но самое важное - состав происшествий, так как трагедия есть подражаниене людям, но действию и жизни, счастью и злосчастью, а счастье и злосчастьезаключаются в действии, и цель (трагедии) - какое-нибудь действие, а некачество; люди же бывают какими-нибудь по своему характеру, а по действиямсчастливыми или наоборот. Итак, (поэты) выводят действующие лица не длятого, чтобы изобразить их характеры, но, благодаря этим действиям,захватывают и характеры; следовательно, действия и фабула составляют цельтрагедии, а цель важнее всего. Кроме того, без действия не могла бысуществовать трагедия, а без характеров могла бы 6... Далее, если кто составит подряд характерные изречения, превосходныевыражения и мысли, тот не достигнет того, что составляет задачу трагедии, ногораздо скорее достигнет этого трагедия, пользующаяся всем этим в меньшейстепени, но имеющая фабулу и сочетание действий... Сверх того, самое важное, чем трагедия увлекает душу, это части фабулы- перипетии и узнавания. Справедливость нашего взгляда подтверждает и то,что начинающие писать сперва успевают в слоге и в изображении характеров,чем в сочетании действий, что замечается почти у всех первых поэтов. Итак, фабула есть основа и как бы душа трагедии, а за нею уже следуютхарактеры, ибо трагедия есть подражание действию, а поэтому особеннодействующим лицам. Третья часть трагедии - мысли; это означает умение говорить то, чтоотносится к сущности и обстоятельствам дела, что в речах достигается припомощи политики и риторики. А характер - это то, в чем обнаруживается
12

нравственный принцип (говорящего); поэтому не изображают характера те изречей, в которых не ясно, что известное лицо предпочитает или чего избегает,или в которых даже совсем нет того, что говорящий предпочитает или избегает.Мысль же есть то, посредством чего доказывают, что что-либо существует илине существует, или вообще что-либо высказывают. Четвертая часть, относящаяся к разговорам, есть словесное выражение;под ним, как выше сказано, я разумею изъяснение посредством слов, что имеетодинаковое значение как в метрической, так и в прозаической речи. Изостальных частей музыкальная составляет главнейшее из украшений, асценическая обстановка, хотя увлекает душу, но лежит вне области (нашего)искусства и менее всего свойственна поэзии, так что сила трагедии остается ибез представления и без актеров, к тому же в отделке декорации более имеетзначение искусство декораторов, чем поэтов.
ФАБУЛА - ОСНОВА ТРАГЕДИИ. КАКОВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ФАБУЛЫ В ТРАГЕДИИ VII. Установив эти определения, скажем затем, каково же должно бытьсочетание действий, так как это первое и самое важное (условие) трагедии.Нами установлено, что трагедия есть подражание действию законченному ицелому, имеющему известный объем, так как ведь существует целое и безвсякого объема. А целое есть то, что имеет начало, середину и конец. Начало- то, что само не следует по необходимости за другим, а, напротив, за нимсуществует и происходит по закону природы нечто другое; наоборот, конец -то, что само по необходимости или по обыкновению следует непременно задругим, после же него нет ничего другого, а середина - то, что и самоследует за другим и за ним другое. Итак, хорошо составленные фабулы недолжны начинаться откуда попало, ни где попало оканчиваться, но должныпользоваться указанными определениями. Кроме того, прекрасное - и живоесущество и всякий предмет - состоит из некоторых частей и поэтому должно нетолько иметь последние в порядке, но и обладать не случайною величиной;красота заключается в величине и порядке, вследствие чего ни чрезмерно малоесущество не могло бы стать прекрасным, так как обозрение его, сделанное впочти незаметное время, сливается - ни чрезмерно большое, так как его нельзябыло бы обозреть сразу; единство и целостность его теряется дляобозревающих. Итак, как неодушевленные и одушевленные предметы должны иметь величину,легко обозреваемую, так и фабулы должны иметь длину, легко запоминаемую...Размер определяется самой сущностью дела, и всегда по величине лучшая фабулата, которая расширена до полного выяснения, так что, дав простоеопределение, мы можем сказать: тот объем достаточен, внутри которого принепрерывном следовании событий может произойти по вероятности илинеобходимости перемена от несчастья к счастью или от счастья к несчастью. VIII. Фабула бывает едина не тогда, когда она вращается около одного(героя), как думают некоторые: в самом деле, с одним может случитьсябесконечное множество событий, даже часть которых не представляет никакогоединства. Точно так же и действия одного лица многочисленны, из них никак несоставляется одного действия. Поэтому, как кажется, заблуждаются все тепоэты, которые написали "Гераклеиду", "Фесеиду" и т. п. поэмы: они полагают,что так как Геракл был один, то одна должна быть и фабула о его подвигах.Гомер, который и в прочих отношениях отличается от других поэтов, и на этотвопрос, по-видимому, взглянул правильно благодаря ли искусству, илиприродному таланту: именно творя "Одиссею", он не представил всего, что
13

случилось с героем, например как он был ранен на Парнасе, как притворилсясумасшедшим во время сборов на войну, ведь нет никакой надобности иливероятия, чтобы при совершении одного из этих событий совершилось и другое;но он сложил свою "Одиссею", а равно "Илиаду" вокруг одного действия, как мыего (только что) определили. Следовательно, подобно тому как и в прочих подражательных искусствахединое подражание есть подражание одному предмету, так и фабула, служащаяподражанием действию, должна быть изображением одного и притом цельногодействия, и части событий должны быть так составлены, чтобы при перемене илиотнятии какой-нибудь части изменялось и приходило в движение целое, ибо то,присутствие или отсутствие чего не заметно, не есть органическая частьцелого. IX. ...Из простых фабул и действий эпизодические - самые худшие, аэпизодической фабулой я называю такую, в которой эписодии следуют друг задругом без всякого вероятия и необходимости. Подобные трагедии сочиняютсяплохими поэтами вследствие их собственной бездарности, а хорошими - радиактеров: именно, устраивая состязание и (поэтому) растягивая фабулу вопрекиее внутреннему содержанию, они часто бывают вынуждены нарушать естественныйпорядок действия. X. Из фабул одни бывают простые, другие - запутанные, ибо и действия,подражания которым представляют фабулы, оказываются как раз таковыми.Простым я называю такое непрерывное и единое действие, как определено(выше), в течение которого перемена (судьбы) происходит без перипетии илиузнавания, а запутанное действие - такое, в котором эта перемена происходитс узнаванием или с перипетией, или с тем и другим вместе. Последние должнывытекать из самого состава фабулы, так чтобы они возникали раньшеслучившегося путем необходимости или вероятности: ведь большая разница,случится ли это благодаря чему-либо или после чего-либо.
ПЕРИПЕТИЯ И УЗНАВАНИЕ XI. Перипетия - это перемены событий к противоположному, притом, как мыговорим, по законам вероятности или необходимости. Так, в "Эдипе" вестник,пришедший, чтобы обрадовать Эдипа и освободить его от страха перед матерью,объявив ему, кто он был, достиг противоположного. А узнавание, как указывает и название, обозначает переход от незнания кзнанию, или к дружбе, или ко вражде лиц, назначенных к счастию илинесчастию. Лучшее узнавание - когда его сопровождают перипетии, как этопроисходит в "Эдипе". Бывают, конечно, и другие узнавания: именно оно может,как сказано, случиться по отношению к неодушевленным и вообще всякого родапредметам; возможно также узнать, совершил или не совершил кто-нибудьчто-либо, но наиболее существенным для фабулы и наиболее существенным длядействия является вышеупомянутое узнавание, так как подобное узнавание иперипетия произведут или сострадание, или страх, а таким именно действиям иподражает трагедия; сверх того, несчастье и счастье следуют именно заподобными событиями.
ЧАСТИ ТРАГЕДИИ. ГЕРОИ ТРАГЕДИИ XII. О частях трагедии, которыми должно пользоваться как основными ееэлементами, мы сказали раньше; по объему же ее отдельные подразделенияследующие: пролог, эписодий, эксод и хоровая часть, разделяющаяся в своюочередь на парод и стасим; последние части общи всем хоровым песням,
14

особенность же некоторых составляет пение со сцены и коммосы. Пролог - целая часть трагедии до появления хора, эксод - целая частьтрагедии, после которой нет песни хора; эписодий - целая часть трагедиимежду цельными песнями хора; из хоровой же части парод - первая целая речьхора; стасим - хоровая песня без анапеста {Анапест - стихотворный размер,где в трехсложной стопе первые два слога краткие, а последний - долгий,составляющий сильную часть стопы.} и трохея {Трохей - стихотворный размер,где в двухсложной стопе первый слог, составляющий сильную часть стопы, -долгий ударяемый, а второй - краткий.}, а коммос - общая печальная песньхора и актеров... XIII. ...Прежде всего ясно, что не следует изображать благородных людейпереходящими от счастья к несчастью, так как это не страшно и не жалко, ноотвратительно, ни порочных (переходящими) от несчастья к счастью, ибо этоменее всего трагично, так как не заключает в себе ничего, что (для этого)необходимо, то есть не возбуждает ни чувства справедливости, ни сострадания,ни страха; наконец, вполне негодный человек не должен впадать от счастья внесчастье, так как подобное стечение (событий) возбуждало бы чувствосправедливости, но не сострадания и страха: ведь сострадание возникает кбезвинно несчастному, а страх - перед несчастьем нам подобного;следовательно (в последнем случае), происшествия не возбудят в нас нижалости, ни страха... Итак, остается (герой), находящийся в середине между этими. Таков тот,кто не отличается (особенной) добродетелью и справедливостью и впадает внесчастье не по своей негодности и порочности, но по какой-нибудь ошибке,тогда как прежде был в большой чести и счастье, каковы, например, Эдип,Тиест и выдающиеся лица подобных родов. Необходимо, чтобы хорошо составленная фабула была скорее простой, чемдвойной, как утверждают некоторые, и чтобы судьба изменялась в ней не изнесчастья в счастье, а наоборот, - из счастья в несчастье, не вследствиепорочности, но вследствие большой ошибки лица, подобного только чтоописанному или скорее лучшего, чем худшего. Это подтверждается и историей:прежде поэты отделывали один за другим первые попавшиеся мифы, ныне ужелучшие трагедии слагают в кругу немногих домов, например Алкмеона, Эдипа,Ореста, Мелеагра, Тиеста, Телефа и всех других, которым пришлось перенестиили совершить ужасное. Поэтому ошибаются порицающие Еврипида за то, что онделает это в своих трагедиях и что многие его пьесы кончаются несчастьем, иЕврипид оказывается трагичнейшим из поэтов.
ХАРАКТЕРЫ В ТРАГЕДИИ XV. Что же касается характеров, то существуют четыре пункта, которыедолжно иметь в виду: первый и самый важный - чтобы они были благородны.Действующее лицо будет иметь характер вообще, если, как было сказано, в речиили действии обнаружит какое-либо направление воли, каково бы оно ни было:но этот характер будет благородным, если обнаружит благородное направлениеволи {7}. Это может быть в каждом человеке: и женщина бывает благородной, ираб, хотя, может быть, из них первая - существо низшее, а второй - вообщеподлое. Второй пункт - чтобы характеры были подходящими: например, можнопредставить характер мужественный, но не подходит женщине быть мужественнойили грозной. Третий пункт - чтобы характер был правдоподобен; это - нечтоотличное от того, чтобы создать характер нравственно благородный иподходящий, как только что сказано. Четвертый же пункт - чтобы характер был
15

последователен. Даже если изображаемое лицо непоследовательно и такимпредставляется его характер, то в силу последовательности его должнопредставить непоследовательным...
О ЯЗЫКЕ ТРАГЕДИИ XXI. ...Всякое имя бывает или общеупотребительное, или глосса, илиметафора, или сочиненное, или укороченное, или измененное. Общеупотребительным я называю то, которым все пользуются; глоссой -которым пользуются некоторые... Метафора есть перенесение необычного имениили с рода на вид, или с вида на род, или по аналогии... С рода на вид я разумею, например, в выражении "вон и корабль мойстоит", так как "стоять на якоре" есть часть понятия "стоять". С вида народ, например, "истинно, тьму славных дел Одиссей совершает", так как"тьма", значит "много", то (поэт) и воспользовался тут (этим словом) вместослова "много". С вида же на вид, например, "вычерпать душу мечом" и "отсекшинесокрушимым мечом", так как здесь "вычерпать" в смысле "отсечь", а "отсечь"в смысле "вычерпать", а оба эти слова значат "отнять" что-нибудь. А поданалогией я разумею тот случай, когда второе относится к первому так же, какчетвертое к третьему; поэтому поэт может сказать вместо второго четвертоеили вместо четвертого второе, а иногда прибавляют (к метафоре) и то имя, ккоторому относится заменяющая его метафора, то есть, например, чаша так жеотносится к Дионису, как щит к Арею, следовательно, поэт может назвать чашущитом Диониса, а щит чашею Арея. Или: что старость для жизни, то и вечер длядня, поэтому можно назвать вечер старостью дня, а старость - вечером жизни. XXII. Достоинство словесного выражения - быть ясным и не быть низким.Самое ясное выражение, конечно, состоит из общеупотребительных слов, но ононизкое. Благородное же и свободное от тривиальности выражение есть то,которое пользуется необычными словами. А необычным я называю глоссу,метафору, удлинение и все уклоняющееся от общеупотребительного. Должнокак-нибудь перемешивать эти выражения: одно, как глосса, метафора, украшениеи прочие указанные виды, сделает речь не тривиальной и не низкой, а словаобщеупотребительные (придадут ей) ясность... Но если кто-нибудь сделает такою всю речь, то получится или загадка,или варваризм; если она будет состоять из метафор, - то загадка, а если изглосс, - то варваризм. Следовательно, должны как-нибудь перемешиваться этивыражения: одно, как глосса, метафора, украшение и прочие указанные виды,сделает речь не тривиальной и не низкой, а слова общеупотребительные(придадут ей) ясность. Весьма важно пользоваться кстати каждым из указанных (способоввыражения), так же как и сложными словами и глоссами, а всего важнее - бытьискусным в метафорах. Только этого нельзя перенять от другого: это - признакталанта, потому что слагать хорошо метафоры - значит подмечать сходство (вприроде). Из слов сложные наиболее подходят к дифирамбам, глоссы - кгероическим, а метафоры - к ямбическим стихам. В героических стихахупотребительно и все выше сказанное, а в ямбических - подходящие слова всете, которыми пользуются в разговорах, так как эти стихи особенно подражаютразговорной речи, а таковы общеупотребительные слова, метафоры и украшающиеэпитеты.
16

КОММЕНТАРИИ 1 В этом принципиально важном положении Аристотель подчеркивает, чтопоэт не должен копировать жизнь, что задача поэта - изображать сущность,общее. Но тут же кроется и непонимание Аристотелем того, что поэт изображаетобщее в единичном. В данном случае у Аристотеля, по словам В. И. Ленина,сказывается "наивная запутанность, беспомощно-жалкая запутанность вдиалектике общего и отдельного - понятия и чувственно воспринимаемойреальности отдельного предмета, вещи, явления" (В. И. Ленин, Философскиететради, Госполитиздат, 1947, стр. 304). 2 Аристотель подчеркивает познавательную функцию искусства, и этим онрезко отличается от своего учителя Платона, который не признавал, чтоискусство дает знание действительности. 3 Аристотель связывает характер поэтических жанров (особенно трагедии икомедии) с моральным обликом личности поэта. Данный взгляд Аристотелясовершенно неприменим к таким драматургам, которые создавали и трагедии икомедии. 4 Положение Аристотеля относительно "очищения", совершающегося черезстрах и сострадание, вызвало многочисленные объяснения, так как самАристотель его не раскрывает. Надо думать, что под "очищением" (катарсис)Аристотель понимал воспитательное воздействие трагедии, которая быладетищем греческой демократии и воспитывала в гражданах чувство коллективизмаи стойкость в борьбе с жизненными препятствиями. 5 Аристотель сначала рассматривает трагедию и комедию исторически,правильно связывая эти жанры с культовой основой, а потом приходит кпризнанию какого-то имманентного развития трагедии и комедии. В этомсказываются те колебания Аристотеля между идеализмом и материализмом,которые ярко проявляются и в самой философии этого мыслителя. 6 Аристотель правильно отмечает, что трагедия изображает действие,напряженную борьбу; дальше он верно и тонко рассуждает, как в зависимостиот этой специфики отличается и композиция трагедии по сравнению скомпозицией эпоса. Но в этом же положении Аристотель допускает неправильноетолкование роли характеров трагедии. Он считает (вероятно, учитываясовременную ему античную поэтическую практику), что для трагедии важнеефабула, чем характеры; Аристотель даже замечает, что трагедия может быть безхарактеров, а без фабулы - никогда. Такой отрыв характеров от фабулы, снашей точки зрения, не верен, так как фабула дается через изображениепоступков людей, через характеры, а не вне их. 7 Таким образом, Аристотель не связывает вопрос о благородном герое спроисхождением последнего. Несмотря на то что Аристотель был убежденнымрабовладельцем, все же он считает, что и раб может быть положительнымперсонажем трагедии.
17